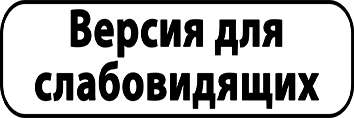Люди - народ интересный
Отрывки из книги «Люди - народ интересный»
1 часть «Взрослые моего детства»
ПОЖАР
Этот день стал как бы осуществлением страшного сна, который из года в год мы видели по ночам, не могли забыть днем и покорно ждали, когда он исполнится наяву. Кто не жил в маленьком городе, состоявшем наполовину из деревянных домов, окруженных деревянными же амбарами, сараями и курятниками, тот не знает таких навязчивых страхов. Чего стоил один набат— этот словно взбесившийся,- бьющий по нервам дробный блям колокола, висевшего на пожарной каланче в соседнем квартале. Особенно страшен зловещий набат был ночью. Он нас будил, мы вскакивали, впопыхах одевались, не зная, что горит, где горит, далеко или близко. Однажды и среди дня, без набата, мы опрометью выскочили из дому, когда к нам с неистовым криком ворвалась незнакомая женщина:
— Горите ведь вы! Горите!
Проходя мимо, она увидела, как крышу нашего флигелька вовсю осыпают искры из труб нависавшей над ним двухэтажной пекарни. В давно не чищенных (если их когда-либо чистили) дымовых трубах сажа горела часто, обильно, пылко, и пекарне это ничуть не вредило: крыша на ней была железная. Наша крыша была дере¬вянной, но мы тоже постепенно привыкли к горящей саже, к пышным, раскидистым снопам искр, и как-то вечером, когда к нам пришли гости, папа даже прервал священнодействие ужина и повел гостей во двор — полюбоваться очередным фейерверком: у Верещагиных опять горела сажа. Гости ахали, ужасались, а мы — мы уже немного гордились! Во всяком случае, я, но кажется мне, что и папа чуть-чуть гордился.
Привычка привычкой, но в глубине души мы сознавали, что играем с огнем, что придет день или, еще того хуже, ночь, и мы из-за этой пекарни сгорим. Впрочем, пожар настойчиво подбирался к нам то с одного, то с другого бока. Он подступил почти вплотную, когда в нашем квартале, на противоположной стороне улицы, загорелись и сгорели четыре полукаменных дома, принадлежавших до революции купцам Зубаревым и Селезеневым, торговавшим льном и холстом с заграницей. В годы гражданской войны в них разместились тыловые госпитали, как и во всех немногих больших домах нашего мещанского и купеческого городка. Пожар случился ночью, зимой, раненых и тифозных в одном белье перетаскивали на носилках и на руках в другие госпитали, и без того переполненные; можно представить, каково им было вдали от войны спасаться от огня. Мы тоже начали вытаскивать из дому свои пожитки: горело так близко, что трудно было надеяться на счастливый исход. Тем более, что против нашей одворицы стояли нежилые бревенчатые бараки, где летом селились ратники, проходившие воинский сбор. Осенью и зимой бараки никто не охранял, крыши на них были худые, замшелые — самая легкая добыча для прожорливого огня,— и лишь узкая полоска сада отделяла крайний левый барак от пылавшего в эту ночь, как факел, селезеневского дома. Однако бараки уцелели, и еще несколько лет, вплоть до самого главного, стихийного пожара, уничтожившего две трети, если не три четверти города, стояли пустые, с забитыми окнами. Не успели восстановить и купеческие дома, нижние, каменные их этажи, чернели оконными впадинами, закоптелыми стенами, навевая тоску заброшенностью и безлюдьем.
Словом, вся противоположная сторона нашего квартала, от Нижней площади до улицы Карла Маркса, в продолжение шести с лишним лет оставалась нежилой. Это было, конечно, неприятно, всегда казалось, что в этих развалинах, с их нелепо торчавшими высокими печками, с хлопающим от ветра полуоторванным железным листом и все еще где-то посвистывающим и пощелкивающим вентилятором, прячутся бандиты и жулики, готовые в любой момент, особенно в темные осенние ве¬чера, раздеть тебя с головы до ног. Горожане по той стороне улицы ходить избегали; полквартала так и осталось без тротуаров, как важно называли у нас деревянные с шатучими досками мостки.
Но привыкнуть можно, повторю, ко всему, и мы к этому неудобству и уродству привыкли. Правда, еще год-два, и дома бы, наверно, отстроились: страна начала заделывать бреши, причиненные семилетней войной, начала строить, больше того — воздвигать. В начале мая 1926 года я вернулся домой после годового отсутствия: вернулся с заканчивавшейся строительством Волховской ГЭС, первой нашей сверхмощной для того времени гидроэлектростанции. Едва я успел немного отдохнуть, как уже надо было приниматься за подготовку к экзаменам: я собирался поступать в Ленинградский электротехнический институт — дело непростое. Утром 26 мая я сидел за столом у окна и решал уравнения из памятного многим поколениям алгебраического задачника Шапошникова и Вальцева. За два го¬да, прошедших после окончания школы, занятие это было не столь уж легким, и я не сразу заметил тревожное оживление на улице. Когда же заметил и открыл окно, то услышал тревожные слова:
— В Шуршонках горит!
Шуршонки — это была приткнувшаяся к городу деревня, по существу продолжение нашей улицы, только за железной дорогой, пересекающей город. Улицу Луначарского и Шуршонки соединял виадук, перекинутый через железнодорожные линии. Как себя помню, я любил на нем стоять и смотреть вниз и вдаль, на рельсы, уходящие к железнодорожному мосту в семьсот метров длиной, на его пять пролетов, пять арок, шагающих через реку Вятку. Это здесь я питал свой мальчишеский интерес к урбанизму. Стихотворения Маяковского «Бруклинский мост» я тогда еще не мог знать, оно появилось позже, зато вдохновенно декламировал про себя (а иногда и вслух) брюсовские стихи:
Улица была как буря.
Толпы проходили,
Словно их преследовал неотвратимый рок.
Мчались омнибусы, кэбы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток...
Ни подо мной, ни вокруг меня не замечалось ни малейшего признака бешеного движения. Редко-редко проходил товарный, еще реже — пассажирский поезд, обдавая гордо стоявшего на виадуке молодого индустриала паром и дымом, по прилегающим улицам и по площади плелись крестьянские лошадки, запряженные в телеги и тарантасы, чинно шли пешеходы,— спешить было совершенно некуда. Что до автомобилей, то в Котельниче их попросту не было, ни легковых, ни грузовых; даже пожарные ездили пока на лошадях.
— Горит в Шуршонках!..
Где бы ни горело, жители наши, узнав о пожаре, выбегали на улицу. И не только от страха или из любопытства: многие, как например мой отец, непременно бежали на пожар, чтобы помочь тушить,— такова была провинциальная традиция, приближавшаяся к неписаному деревенскому закону, по которому все соседи сбегались гасить загоревшуюся избу или овин, пусть даже их самоличным хозяйствам не грозила опасность. Лишь однажды, я помню, мой серьезный, не склонный к озорству отец рассказывал, как они с приятелем в молодые годы, под видом того, что тушат пожар, пихали и кидали в огонь все, что попадалось под руку: деловые бумаги, прошнурованные с печатями конторские книги,— горела полиция!
Услыхав про Шуршонки, я захлопнул задачник, выскочил за ворота и сразу увидал клубы густого дыма, быстро несущиеся по небу из-за железной дороги в нашу сторону. Не успел я решить — бежать мне сразу туда, где горит, или не оставлять маму одну, дождаться папы — скоро обеденный перерыв,— как вдруг папа меня окликнул. Вместе с моим школьным другом Колей Карловым они примчались с горы, где к Верхней площади примыкала обширная территория городской больницы, главным врагом которой был Колин отец, а кварталом ниже жила их семья. Чуть раньше, чем я, в самом начале одиннадцатого, Коля услышал от пробегавшего мимо дома мальчишки:
— Дяденька, пожар!
Выбежав на улицу, Коля увидел большой столб дыма, поднимавшийся где-то в районе железной дороги, примерно там, где жили мы; как был, в сандалиях, в домашней куртке, он побежал к нам и почти сразу догнал моего отца.
Очень скоро папа и Коля поняли, что горит далеко, за железной дорогой, и умерили шаг. Правда, ветер дул как раз оттуда, с запада, и довольно сильный, день стоял жаркий, несмотря на май, но пока еще ничто не предвещало большой беды. И все же в Шуршонки отправились только мы с Колей; папа, вопреки традиции и характеру, остался дома: по-видимому, мама попросила остаться, она пуще всех в нашей семье боялась пожара.
Добежав до виадука, мы оглянулись — и остолбенели: дым валил уже возле самого нашего дома! Ничего не поняв, что произошло, как, почему возник новый пожар (в первый момент создалось впечатление, что это два независимых друг от друга пожара), мы с Колей ринулись назад. Оказалось, что загорелся дом нашей соседки, старой учительницы. Отец побежал в ее двор, хотел взобраться на горевшую крышу двухэтажного деревянного дома, но не нашел лестницы. Сейчас он уже влез на крышу ближних к дому Екатерины Матвеевны наших старых амбаров.
Ветер усиливался с каждой минутой и разносил горящую паклю с места пожара, со складов кудели и льна, лепя ее на все деревянные крыши города. Так в первые же полчаса загорелась деревянная каланча, и набат умолк. Умолк навсегда: после пожара каланчу не восстановили. А в тот злополучный день, когда одновременно пылали все городские улицы, местные пожарные вообще мало что смогли сделать.
Зато упорно, систематично тушили пожар вблизи железной дороги мои любимцы — паровозы, спешно прибывшие с соседних станций. Скромные трудяги-маневрушки — «Овечки», «Щуки», как называли их по первым буквам «ОВ» и «Щ»,— постоянно дежурившие на станциях Котельнич-1 и Котельнич-2, вступили в борьбу с огнем еще раньше. Только благодаря паровозам, качавшим воду из своих тендеров, удалось отстоять вокзал, многочисленные станционные постройки — пакгаузы, склады, сберечь мельницу «Коммуну» на Нижней площади, военные казармы, нефтяные баки. Посчастливилось жителям всех ближних к железной дороге кварталов, в частности нам. Если бы не паровозы, охранявшие Нижнюю площадь, нам бы не удалось спасти добрую часть домашних вещей, да и самим пришлось бы худо. Так, жителям центра пришлось спасаться в городском овраге с протекавшей по нему речкой Балакиревицей и на реке Вятке. Правда, и на реке в тот день много раз загорались плоты и сложенное на них имущество, но там можно было побросать вещи в воду и самим туда залезть, что жители и проделывали. Пристань же и стоявшие на причале и на якорях баржи увели подальше от города пароходы. (Моторных катеров в речном обиходе, сейчас столь многочисленных, тогда не было.) Больницу отстояла вызванная по телеграфу вятская пожарная команда, усиленная вятскими же курсантами, красноармейцами и рабочими.
Но обо всем, что происходило в макромире нашего городка, мы узнали потом,— события развернулись с такой быстротой, что мы едва поспевали за огнем в микромире нашего участка, нашего дома. Сначала отец не принимал участия в спасении утвари — весь первый час провел на крышах, преграждая дорогу огню к жилому дому. Наши старые пустые амбары тянулись на большом пространстве, окружали почти весь участок, и отцу приходилось перебегать, перелезать и переползать с крыши на крышу. Да, и переползать, потому что гнилые доски то и дело проваливались, а ведь часть амбаров была двухэтажной. Коварно опасен был и высокий навес, ни разу за много десятков лет не чиненный. Мама увязывала носильные вещи в узлы, мы с Колей вытаскивали эти узлы во двор, потом на середину улицы, потом предстояло им переместиться на Нижнюю площадь.
Неоценимую помощь нам оказали наши друзья — крестьяне из ближних деревень, расположенных верстах в пяти,, в семи от города. Узнав, что Котельнич горит (тучи дыма видны были издалека, да и слух о пожаре быстро разнесся по всей округе), они кто прибежал, кто приехал на лошади (тем более великодушный поступок для любого крестьянина) и рьяно принялись выносить и увозить наши вещи в относительно безопасное место.
Не обошлось без курьезов. Скажем, мы с молодым мужиком вымахнули из дома окованный железом старинный сундук с бельем и одеждой, один угол которого в обычное время я бы не мог приподнять даже на вершок от пола! Потом тот же самый Михаил Сивков, симпатичный мужик, которого я помню всегда улыбающимся, начиная с минуты, когда он впервые у нас появился, вернувшись из германского плена, на моих глазах бежал по двору с туалетным зеркалом, стоявшим обычно на мамином комоде; крепко держа его перед собой обеими руками, он вдруг запнулся за что-то, упал — и толстое стекло треснуло пополам. Это был единственный раз, когда я заметил, как с Мишиного лица сошла обычная белозубая улыбка, и появилось выражение озабоченности и огорчения... Впрочем, зеркало существует и сейчас, пусть с трещиной, а Михаила Сивкова давно нет: вещи, как известно, надолго переживают людей.
Не знаю, как вернее сказать: время не то убыстрилось, не то замедлилось,— во всяком случае, с ним произошло какое-то волшебство, ибо за час-полтора мы успели сделать и спасти столько, что нам и не снилось в самых подробных пожарных снах. Все делалось «наускоре», «впробегутки», выражаясь по-местному. Вытаскивали вещи не только из комнат, из кухни, из сеней, с чердака, который назывался «подволокой», но и из соседнего с домом амбара, служившего для нас летом чем-то вроде дачи: там было прохладней, чем дома, мы пили там чай, обедали, даже принимали гостей, хотя обстановка была совсем не парадная. Над головой угрожающе нависала лежавшая на балках большая лодка, которую никогда не спускали на воду,— для этого существовала другая, значительно меньших размеров; вдоль двух стен — задней и боковой — протянулись поленницы отборных березовых дров, предназначенных для самой морозной поры. Представляю, как жарко они пылали и как дружно трещали, когда добрался до них огонь!
Третья стена амбара была для меня самая интересная: отведена плотницким, столярным, слесарным инструментам, моткам проволоки, связкам бечевок, веревок и рыбачьим снарядам. У четвертой стены, обращенной во двор, подле широких двустворчатых дверей, стояли разные брусья, рейки и колья, а также мои и отцовские лыжи. Именно здесь отец и я что-нибудь мастерили: здесь не страшно было настрогать, насорить — легко по том подмести. Пол был простой, некрашеный, но, как и в доме, имелась необходимая для житья-бытья мебель: стол, диван (со спинкой и подлокотниками, оклеенными фанерой красного дерева, пусть облупившейся), простые, крепкие стулья. Начиная с весны, как только становилось теплее, мы обживали эту нашу дачу; кухня, естественно, оставалась в доме, обед и кипящий самовар для утреннего и вечернего чая приходилось носить из кухни. Зато в открытые настежь двери мы видели весь наш зеленый, заросший травой и лечебной ромашкой двор, слышали свист носившихся над двором и над крышами ласточек и стрижей. (Где они были во время пожара? Улетели из города? А птенцы? Научились ли они уже летать к тому времени?)
Но вот я сказал: «дрова трещали» — и подумал о том, что шум, треск пожара мы еще слышали, а вот все остальное — сборы, хлопоты, беготня, бесконечная, терпеливая и бесстрашная борьба папы с бесчисленными кострами и костерками — очажками пожара на крышах, и прочее, и прочее, и прочее, да и весь этот день, весь пожар в городском масштабе,— запомнилось мне как немой фильм, без единого слова. Собственно, звуковых фильмов тогда и не существовало, все фильмы были немыми, так что сравнение это я делаю единственно для того, чтобы подчеркнуть безмолвие происходившего с нами и вокруг нас. Наверное, мы перекидывались какими-то необходимыми фразами, короткими репликами, но впечатление таково, что мы все только действовали, совершенно не переговариваясь. Так оно, наверно, и было: как начался этот пожар без привычного для всех прежних пожаров набата, так он и продолжался, так и закончился: немой, немой, как в немом сне...
Я не раз называл имя моего друга Коли Карлова, самого деятельного участника спасения нас от огня. Что в это время происходило в его семье, в его доме? Вытаскивать вещи практически было некому — одни женщины; Николай Иванович, как главный врач, не считал возможным покинуть больницу, которой угрожала опасность; младший брат Боря за день до пожара уехал вместе со своим выпускным классом в Вятку, а Коля… Коля долго не мог попасть в свой район: пути оказались перерезаны огнем. С Нижней площади, от «Коммуны», была хорошо видна поднимающаяся в гору Советская улица с пылающими справа и слева домами, с объятыми пламенем колокольнями Троицкого собора и Никольской церкви, с уже сгоревшей деревянной аркой поперек улицы (осталась после первомайского праздника); пройти, пробежать сейчас вдоль этой улицы — все равно что проскочить сквозь огненный коридор более чем километровой длины. И Коля его проскочил, но — поздно: их квартира сгорела.
Мы оба хорошо помним, как в последний раз подбежали к нашему дому, когда он тоже уже горел. Горел и отделенный от него воротами и калиткой наш старый, уже три года как нежилой дом. Горел забор и лежащие за ним бревна — складница на высоту роста плюс поднятая рука. Все это пылало так жарко, что нас поразило — откуда такая сила у маленьких, низких строений. Ведь двухэтажный верещагинский дом еще не горел — он загорелся уже от нашего флигеля, через какие-то считанные минуты, но все-таки после. Вот ирония судьбы: всю жизнь мы боялись соседства этой пекарни, осыпавшей нас искрами из своих труб, а вышло так, словно мы ее подожгли!
Хотя горела пока лишь одна сторона улицы — наша, жар стоял такой, что нам с Колей не удалось унести вытащенный на улицу зеленый шкаф, обычно стоявший в сенях (в нем и зимой и летом хранились различные варенья),— сейчас он лежал на самой середине дороги. Одновременно схватившись за него с двух концов, мы в тот же миг отскочили: масляная краска так раскалилась, что уже пузырилась, и мы, отдернув обожженные руки, почувствовали, что, останься мы здесь еще с минуту, и одежда на нас задымится. Помню, как, добежав до площади, я с облегчением сунул голову под струю из водоразборной колонки, из которой обычно мы брали питьевую воду. Потом я жалел, что не схватил лежавшие рядом со шкафом весла от лодки (лодку мы с папой как раз накануне пожара спустили на реку), прильнув к земле, они, вероятно, раскалились меньше, чем шкаф.
Недавно Коля Карлов (ныне врач Николай Николаевич, с сорокапятилетним стажем, отец и тесть врача; все трое работают в Котельничской больнице) напомнил мне любопытную подробность: по ту сторону улицы, где еще ничего не горело, какой-то человек торопливо ломал забор, отделявший деревянные бараки от сгоревших семь лет назад селезеневских домов.
— Разве ты его не узнал? — спросил меня Коля.— Это был Николай Семенович Зырин. Я почему-то не помню, как выглядел Зырин. Между тем это был известный в городе человек: бывший председатель уездной земской управы, бывший помещик, (единственный в нашем уезде), бывший хозяин огромного участка земли, простиравшегося от улицы Луначарского (бывшей Воробьевской) до Советской (бывшей Московской), бывший хозяин прекрасного дома из лиственницы, где помещался после революции городской клуб, бывший хозяин не раз упомянутых деревянных бараков и многочисленных надворных построек, где разместились казенные склады... Зачем же Зырин ломал забор? Что он пытался спасти? Муниципализированные дома, право собственности на которые он никогда не вернет? Дело обстояло проще. Зырину разрешили построить на бывшем его участке, вернее на малой его части, примыкавшей уже не к центральной, а к нашей улице, небольшой домик, в котором он жил и вокруг которого развел садик (за забором не было видно ни дома, ни садика),— их-то он и пытался спасти от огня, ломая заборы... Конечно, ему это не удалось. Как не удалось почти никому.
Почти. . . Значит, кому-то все-таки удалось? Да, на главной, Советской, улице огонь не пошел дальше Верхней площади и не тронул больницы; на улице Луначарского остановился кварталом ниже, дойдя до большого, красивого, трехэтажного здания школы, в которой мы с Колей учились; на Октябрьской и Пролетарской улицах пожар не перешагнул за овраг, перерезавший город на две приблизительно равные части. Что остановило пожар? Кроме усилий гасивших его людей были опять же и естественные причины. Прежде всего льняной, склад, из которого летела во все концы города пылавшая или тлевшая куделя, сгорел начисто. Затем сильный и все усиливавшийся в первой половине дня ветер (казалось, что сам пожар, разгораясь, создает этот бурный воздушный поток, а возможно, что так и было) стал утихать. И наконец, как это часто бывает в результате большого пожара или после длительного артиллерийского боя, тучи дыма образовали дождевые тучи, и хлынул обильный дождь, благодатный дождь...
Ах, какое это было блаженство! Кажется, еще никогда в жизни мы не испытывали такой радости от дождя,— эту радость я помню, чувствую и сейчас; а вот долго ли шел этот дождь, не помню...
Зато хорошо помню, как со знакомым мужиком Константином из деревни Вшивая Горка я под вечер поехал на лошади по сгоревшему городу, как приехали мы к нашему двору и не нашли там ничего, кроме дымивших головешек: это догорали врытые в землю бревна парников в огороде и венцы бревенчатых срубов колодца и погреба. Обгорели, но не упали наземь деревья — любимые мной тополя, березы, черемуха, липа, на которые в детстве я с упоением лазал. Обойдя наш участок, мы прошли на соседний: там тоже все было пусто, голо, черно — ни двухэтажного, стоявшего в глубине двора деревянного дома, в котором я часто бывал у Екатерины Матвеевны, ни амбаров, ни колодца, ни погреба; и так же, как у нас, стоял черный, как уголь, сгоревший сад, и точно так же везде пахло гарью и дымом.
Мы вышли на улицу. То, что я здесь увидел, меня потрясло, впервые за этот день заставило оцепенеть физически и душевно,— впервые, ибо весь день пребывал я в непрестанном движении, в действии, в желании действовать, даже сейчас, когда бродил по участку. А увидел я на улице вот что: на середине дороги, напротив сада Екатерины Матвеевны, лежала она сама, мертвая. Лежала на спине, вся одежда сгорела, только под теменем чернела кружевная наколка, в которой я ее всегда помнил; в правой руке зажата связка ключей, на запястье левой виднелись часы; они шли, в тишине явственно слышалось тиканье. Тело Екатерины Матвеевны не обгорело, лишь слегка вздулось, поэтому выглядело молодым, что дало повод флегматичному Константину заметить:
— Ну и ну! Ровно девка лежит!
Первым моим движением было закрыть это тело. Чем? Даже сена ни клочка не было на телеге. И вокруг ни травы, ни зеленых ветвей. И никого, к кому мог бы я обратиться. Константин молча сел на телегу, я рядом с ним, и мы укатили, оставив мертвую Екатерину Матвеевну. Не знаю, как мы могли иначе поступить, куда увезти ее тело,— мы даже не знали, цела ли городская больница с покойницкой.
На следующий день я с моими родителями снова пришел на пепелище. Трупа старой учительницы на улице уже не было. К тому времени мы узнали, что человеческих жертв от пожара немного: сгорела соборная сторожиха или монашка, которая зачем-то заперлась в церковной сторожке, сгорел какой-то старик, бежавший через Соборную площадь с самоваром в руках и внезапно охваченный огнем; сгорело еще несколько человек. Обожженных, конечно, было немало. На этот раз мы внимательно, сверхвнимательно осмотрели участок — не осталось ли чего-нибудь годного. Остались железные части лопат, вил, ухватов, кочерег, различные задвижки, болты, гвозди, щеколды, скрюченные, искривленные куски толстой проволоки, еще какие-то железяки. В погребной яме лежало, стояло, свернувшись набок, несколько обгоревших, с почерневшей или совсем отвалившейся эмалью кастрюль, чугунков, горшочков.
Нашли скелет козы Гульки, которая вчера забилась в угол сарая, где она жила и откуда ее не могли ни выгнать, ни вытащить. Кто-то мельком вчера заметил, как кошка шмыгнула на чердак, а щенок под мостки,— там они и сгорели. А вот куры... куры почти все уцелели, сгорела только одна, высиживавшая цыплят. Принято говорить: «Она (или он) — настоящая курица», считая кур образцом бестолковости. Между тем шеф наших кур, петух, организованно вывел их со двора, затем на площадь, там они где-то бродили или ютились,— в самое горячее, вернее, горящее время мы их не видели, не до них. Сегодня же мы нашли наших кур на Нижней площади: во главе с полным достоинства петухом они ходили, прилежно поклевывая рассыпанные на утоптанной, уезженной земле ржаные, пшеничные, ячменные зерна; им явно по нраву пришлись окрестности мельницы, где в обыденной своей жизни они никогда не бывали и кроме овса и отрубей ничего не пробовали.
Как же случилось, что город сгорел на две трети? Как могла выгореть на протяжении двух километров главная улица, почти вся состоявшая из каменных домов с железными кровлями? Как сгорели три каменные церкви, в том числе и старинный толстостенный собор, рядом с которым на целый квартал простирался каменный же гостиный двор, тоже с толстыми стенами и сводчатой каменной галереей, где было всегда прохладно? Да, бесновался огненный вихрь, но могло бы еще обойтись, если бы не дворовые постройки: амбары, сараи, дровяники — все это было деревянным, а то и ветхим, все легко вспыхивало даже от одной искры. Взглянуть бы тогда на город со стороны! Наверно, это было похоже на Страшный суд, только грешники не корчились в адском пламени, не вопили, грозя небу кулаками, а деятельно таскали на себе свое добро, порой забывая в доме ценные вещи, а спасая рухлядь и хлам.
С чего же все началось?
Разумеется, провели следствие, и подозрение сперва пало на столяра и гробовщика Зайцева, проживавшего в деревне Шуршонки. Якобы он в то утро варил во дворе олифу и то ли по небрежности, то ли по забывчивости упустил момент, когда костерок разгорелся и пламя охватило накопившийся в углу двора строительный мусор. Рядом же с зайцевским двором находились те самые склады льна, о которых я уже дважды упоминал,— они-то и сделались разносчиками пожара, невольными поджигателями, погубившими город. Бывают же такие злосчастные совпадения: именно в этот день, с утра пораньше, по случаю хорошей погоды, вынесли лен и куделю на крышу для просушки. И через час начался пожар...
Недавно я прочел в местном краеведческом музее записи моего отца, бывшего в те годы техником Совнархоза:
«Возник пожар в пригороде, в так называемой деревне Шуршонки, в западной части города, в доме Зайцева Александра Ильича. Много было догадок о причине пожара, были и аресты по подозрению, но дознаться истинной причины так и не удалось. Самого хозяина, по профессии столяра, тогда дома не было, он находился, как староста, в церкви, был какой-то церковный праздник. Подозревался его квартирант Куликовский, глухой и вечно с трубкой во рту старик, тоже занимавшийся столярным ремеслом во дворе; предполагали, что он, как курящий, мог заронить искру в стружки, а ветер раздул ее в пожар. Но, видимо, он сумел доказать свою невиновность и был освобожден. Едва ли не достовернее будет версия, которую мне случайно пришлось выслушать уже несколько лет спустя от одного из граждан, прибывших к месту пожара в самом начале, когда горела нижняя часть тесового крыльца. Он передавал, что огонь вырвался как раз из-под лестницы и возник от горячих углей, вынесенных в корчаге в кладовку и не заглушённых крышкой по забывчивости и торопливости, с которой вынесшая угли женщина вернулась в дом к заплакавшему в этот момент ребенку...
Но, что бы ни было причиной пожара,— пишет дальше отец,— к шести часам вечера от города осталась лишь четверть, лучшую его часть вымело огнем. Сила огня была такова, что о тушении уже не думали, а спасались сами… Я знаю случай, когда от нивелира, вынесенного с прочим имуществом на берег, осталась только часть медной трубы с расплавленным стеклом объектива».
Сейчас и я вспомнил случай, характеризующий силу I ветра в часы пожара. В двадцати пяти километрах от Котельнича находится село Пищальское. С высокого берега Вятки в ясный день можно увидеть сельскую колокольню,— она белеет на синей лесной полосе на горизонте крохотным восклицательным знаком. В это село и принес воздушный поток легкую шелковую косынку, как весть о беде,— двадцать пять километров летела эта необычная аэрограмма...
Теперь несколько слов вообще о Котельниче. Кто знал, кто слышал о нем до пожара? А ведь городок существует с XII века, когда он был черемисским селением и назывался Кокшаров; уже в конце века его завоевали новгородцы и наименовали Котельничем, от слова котел: центр города и сейчас расположен в котловине между двумя горами. Вот летописные сведения, относящиеся к 1629 году:
«Город Котельнич над рекою Вяткою, деревян, ветх. Всего в городе и на посаде пять церквей, да церкви без пения. Да в городе и на посаде семь дворов церковных, да двор съезжий для посланников, да два двора пушкарских, да два двора монастырских, а в них живут старицы, да двадцать пять дворов тягловых людей, и людей в них тож (иначе говоря, взрослых мужиков.—Л.Р.) да двадцать шесть дворов пустых, да тридцать семь дворовых мест пустых. За посадом, за рекой Балакиревицей, монастырь Ивановской, а в нем церковь во имя Рождества Ивана Предтечи деревянная, а на мо¬настыре семь келий, а в них живут черноризцы, старец Иов с братию, да к тому монастырю на монастырской стороне монастырские бобыльские четыре двора».
В новое время — я имею в виду XIX и начало XX века — Котельнич хорошо знали ссыльные и их близкие родичи: ссылали в наш город часто, в те годы, когда через него еще не прошла транссибирская магистраль. Несколько лет жил в Котельниче Беклемишев, народо¬волец, сюда же сослали и его сына; до сих пор на улице Луначарского, в нагорной ее части, сохранился деревян¬ный домик (пожар его не достиг), где в юности проживал Н. Е. Федосеев, с которым в девяностые годы переписывался В. И. Ленин.
В 1926 году неведомый почти никому Котельнич благодаря пожару приобретает всероссийскую известность, чуть ли не славу: о нем пишут в газетах, сравнивают Котельничский пожар с другими известными большими пожарами, например в Сызрани, собирают и шлют пожертвования и пр. Слава продолжалась недолго — сенсации забываются быстро. И все же сенсация была, и помощь тоже была. Приехал в Котельнич и выступил перед жителями нарком внутренних дел.
Собственно, приезд такого известного человека в Котельнич являлся тоже событием, но я не помню большого стечения народа на митинге в городском (Загородном) саду. Слишком озабочены были жители своим устройством после беды, слишком заняты подысканием хоть какого-нибудь жилья; да немного их и осталось в городе, большинство расселилось в окрестных деревнях. Впрочем, в том же Загородном саду был организован пункт питания погорельцев и устроена временная библиотека-читальня. Да, прекрасная городская библиотека сгорела, как сгорели и все магазины и продуктовые лавки,— купить что-либо стало возможным только на рынке или в деревнях,— городок являл собой полдесятка квадратных километров черной пустыни, долгие месяцы летом, осенью и зимой — удушливо пахнувшей гарью, но библиотека, конечно в миниатюре, сразу же возродилась. И люди, пришедшие в сад съесть миску супа и прочитать свежую газету, полистать журнал «Крокодил» или «Безбожник», молча выслушали речь наркома, который деловито, без митинговых приемов, рассказал о принятых правительством мерах помощи, о спущенных городу фондах строительного леса и кирпича, и с удовлетворением разошлись. Кто-то из толпы крикнул: «Почему страховку не платят?» На него справедливо шикнули: шла всего первая неделя после происшедшей беды, от банка остались одни закоптелые стены, но инкассаторы ежедневно привозили из губернской (еще не областной) Вятки и аккуратно выплачивали уездным (еще не районным) служащим жалование (кажется, тогда его еще не сменило слово «зарплата»).
Примерно с год Котельнич был пуст и черен (если не считать, что зима благодатно укрыла белой пеленой головешки и развалины,— я увидел его именно таким, приехав на зимние каникулы; впрочем, гарью все равно пахло), но потом быстро отстроился. Не стало только церквей, украшавших город, и еще не поднялась зелень новых посадок, превратившихся со временем в тенистые сады и бульвары, делающие его нынче похожим на южный курорт.
Котельнич стал погорельцем за пятнадцать лет до войны. Как ни странно, война, уготовившая несравненно худшую участь сотням городов и селений, принесла ему известность гораздо большую, чем пожар 1926 года. Тысячи эвакуированных из Ленинграда и других городов осели на несколько лет в Котельниче — число жителей в городе сразу удвоилось, достигло сорока тысяч,— а великое множество фронтовиков и тыловиков, командированных и мобилизованных, москвичей и уральцев, сибиряков и дальневосточников проехало мимо, возможно запомнив название станции. К тому времени станция была уже узловой — точка пересечения Северной и Горьковской железных дорог и пристань на большой судоходной реке.
И какие же разные это были люди! Одни ждали пересадки, сутками живя на вокзале, часами топчась на рынке, меняя вещи на продукты, которые стоили здесь вдвое и втрое дешевле, чем в крупных промышленных центрах: скажем, за пуд картошки запрашивали все же не тыщу, а четыреста рублей. Другие прослышали о Котельниче от поселившихся в нем родных и знакомых. Третьи лежали в здешних госпиталях, размещенных во всех двухэтажных и единственном трехэтажном зданиях города. Выздоравливающие бродили по улицам, толкались на базаре, меняя пять кусков пиленого сахара на восьмушку самосада, в летние и весенние дни грелись на солнышке,— мудрено не запомнить место, где они возвратились в жизнь, иные хотя бы и для того, чтобы вновь отправиться навстречу смерти.
Когда война кончилась, город стал ширить свои границы. Ближние к нему деревни становились городскими улицами, сперва окраинными, затем обычными, рядовыми. Вокруг станции Котельнич-2 (Горьковской ж. д.) образовался свой город-спутник с домами и участками усадебного типа, с садами и огородами, где улицы все до одной почему-то получили историко-литературные наименования: улица Герцена, Лермонтова, Рылеева и многих других писателей. В городе появились четырехэтажные и пятиэтажные жилые дома,— оригинальности, красоты в них не было, но в сочетании с зеленью деревьев, алыми кистями рябин, цветущими яблонями снаружи и бытовыми удобствами внутри они могли считаться достижением городской культуры.
Мало, очень мало кто из жителей этих новых, полуновых и совсем немногих оставшихся доживать старых домов помнит о стихийном пожаре 1926 года,— каких-нибудь два-три десятка людей, не больше. И дело не только в том, что прошло полвека, что с тех пор появились на свет уже два поколения, не видевшие пожара, а те, что были тогда детьми, стали дедушками и бабушками: исконных котельничан осталось вообще немного, не кма, говоря по-вятски.
Конечно, во время пожара я не успел ощутить утрату всего, что вчера еще было моим детством и отрочеством: двор, дом, сад — за несколько часов все исчезло, и в эти часы было не до горьких осмыслений. Не до того мне было и после пожара: подготовка к экзаменам в вуз, скорый отъезд в Ленинград, молодая целеустремленность — вот что решало и определяло самочувствие. «Вперед, вперед! Назад не оглядывайся!» — таков был не произносимый вслух девиз. Вместе с тем где-то внутри, глубоко внутри, я, несомненно, ощущал, что пожар отчеркнул резкой угольной чертой все мое прошлое, если можно его в восемнадцать лет так назвать!
Лишь теперь, через полвека, мне захотелось вспомнить и рассказать о том, что предшествовало этой черте, обо всем, что в тот майский день сгорело. Впрочем, не надо усматривать в этом подчеркнутом слове символику и патетику: в том, что я хочу вспомнить и рассказать, ничего такого возвышенного не будет,— будут просто картинки уездной жизни, запомнившиеся ребенку, подростку, немного позднее юноше.
СОСЕДИ
Улица, на которой мы жили, называлась Воробьевской, а после революции — улицей Луначарского, но чаще ее называли просто Второй. У нашего городка было одно сходство с Нью-Йорком: продольные улицы жители называли по номерам — Первая, Вторая, Третья, Четвертая. Правда, в Нью-Йорке этих самых его авеню тринадцать, Котельнич довольствовался четырьмя, но тянулись они тоже через весь город, версты на две с гаком,— по крайней мере главная, Первая улица, именовавшаяся Московской, потом Советской. Вторая улица была покороче.
Наш квартал соседствовал с Нижней площадью, где каждую весну, в марте, бурлила Алексеевская ярмарка, крутились карусели, царствовал цирк, а лошадей, запряженных в нарядные, убранные коврами сани, кошевки, кибитки, в простецкие розвальни, топталось столько, что навоза от них хватало на все обывательские огороды, да еще пригородные мужики увозили его на свои поля.
Вдоль железной дороги, пересекавшей площадь, рядом с полосой отчуждения, заросшей ромашкой и лютиком, красовались мясного цвета каменные ряды; в обыч¬ное, неярмарочное время они пустовали, потому что рынок был в другом месте — на Соборной площади, в го¬родском центре. После пожара собор был снесен, вместо него разбит сквер, а рынок перенесли на Нижнюю площадь, и колхозники теперь продают баранину и свинину в тех самых кирпичных рядах, нимало не сомневаясь, что так было от века.
По другую сторону линии располагались воинские казармы барачного типа и среди них деревянный же Гарнизонный театр. Как-то ранней весной 1919-го или 1920 года среди нас, школьников, распространился слух, чт0 в Гарнизонном театре будут давать спектакль «Князь Серебряный» по роману А. К. Толстого,— неизвестно, почему именно эту вещь избрало чье-то воображение. Целый вечер мы торчали у входа в театр, но его так и не отперли. Вместо «Князя Серебряного» мы увидели в широком итальянском окне соседней казармы, как, раскорячившись на нарах лицом к свету, не обращая внимания на редких прохожих, а тем более на нас, молоденький красноармеец сосредоточенно брил себе лобок: год был тифозный.
Трудно сказать, почему это зрелище произвело на меня столь щемящее впечатление: я вернулся домой сам не свой. К сыпняку, разгулявшемуся в тот год и косившему наших родных, друзей и знакомых, можно было уже привыкнуть: бытовое явление. И все же сжималось сердце, когда я слышал негромкий, полусекретный разговор родителей: мама пришла домой и обнаружила у себя на белье вошь. И вот две недели тревожно ждем — заболеет мама или не заболеет… Моя чувствительность и мой страх принимали порой неожиданные формы. Я дружил с мальчиком моих лет Володей Бутыриным, мать которого давно умерла. И вдруг я ему позавидовал: горе его позади, он привык быть сиротой, ему не надо переживать то, что будет со мной, если я потеряю маму. Самое удивительное, что я убедил и Володю: он согласился, что он счастливее, во всяком случае, благополучнее меня!
Странным образом сочетались тогда самые несовместимые вещи: война, голод, тиф, обычная трудовая жизнь — и развлечения. Я имею в виду не только нас, ребятишек, не унывающих в любую эпоху,— развлекались и взрослые. В клубах, учреждениях, госпиталях устраивались вечера и балы, благо город изобиловал воинскими духовыми оркестрами. Самый лучший оркестр принадлежал летной части (с ее привязными аэростатами — не самолетами). Молодые, красивые командиры танцевали с совбарышнями, местными и приезжими; все эти дочери и молодые жены купцов, подрядчиков, приказчиков, бухгалтеров, врачей и священников, а то и столичных сановников, постаравшихся затеряться в российских просторах, днем стучали на машинках в УОНО, горсовете, совнархозе, уземотделе, а вечером откровенно веселились. Шла своеобразная уездная жизнь, похожая и непохожая на дореволюционную, словно бы устоявшаяся, налаженная всерьез и надолго, а на самом деле — пфф! — и все разлетится… Но не разлеталось! Множились любовные романы с идиллическими и драматическими развязками; дамы упоенно рассказывали, как один командир стрелял в себя из-за измены возлюбленной, но ее отец, врач, спас его, вылечил, и командир благополучно отбыл на фронт после такой романтической тыловой передышки; а уж что с ним было потом, никому не известно — война длилась и длилась.
Соседи…Котельнич был таким маленьким городом, что ЧУТЬ ли не всех его жителей можно считать соседями. Правда, война и революция их усердно перемещали, перетасовывали, но я начну с дореволюционных соседей; некоторые из них были мамиными родственниками, другие — знакомыми, третьих я только видал на улице…
Соседи… У меня сохранился план города, составленный в начале этого века. На нем обозначены не только улицы и жилые кварталы, но и отдельные домовладения — частные, муниципальные, земские: школы, гимназии, городская управа, земская управа, больница, богадельня, тюрьма, пожарная команда, гостиный двор, церкви. Фамилии домовладельцев на плане не значатся, но кое-кого я помню, и, как выяснилось, довольно многих, правда, большинство понаслышке. Несколько фамилий здесь приведу, потому что они типично Котельнические; некоторые из них я нигде не встречал или встречал, но редко: Корякин, Колбин, Метелёв, Коврижных, Изергин, Волобуев, Вохмянин, Кирпиков, Хробрых, Кошурников, Пинаев, Куимов, Баруткин, Бизяев, Ворона, Гридин, Грехнёв, Перминов, Мурат (!), Новокшонов, Балыбердин…
КНИГИ
Мальчик в среднеинтеллигентной семье, в провинции, к тому же выросший без братьев и сестер, привыкал к книгам с младенческих лет,— он, можно сказать, жил в книжном царстве. Жил в этом царстве и я. Смутно помню, как года в два, еще не умея читать, а только смотря картинки в книжках, я потерпел первое жизненное крушение. Две наши небольших комнаты согревала печка-лежанка, и вот однажды, в морозный солнечный день, когда я уютно на ней полеживал, созерцая мир с высоты двух аршин, у меня шевельнулась мысль: достать свешивавшийся одним концом с печки нарядный складень — книжку-складень. Я подвинулся к краю... дальше, дальше, еще немножко — голова перевесила, и я рухнул вниз, на железный противень, защищавший пол от скакавших из дверцы каленых углей. Грома было много, рева тоже, шрам на лбу заметен и сейчас; так началось мое знакомство с литературой.
Знакомство продолжалось все детство, правда уже не столь драматично, зато катастрофически быстро росла лавина прочитанных книг. Одни книги составляли мою личную собственность, книги-подарки, другие принадлежали моим родителям, третьи — нашим знакомым, четвертые я брал из библиотек, городском и школьной, и это был главный книжный источник. ..
Повторяю, книг было прочитано за детские годы не одна тыща. Полные собрания сочинений того же Жюля Верна, Майн Рида, Купера, Буссенара, Густава Эмара, Жаколио, Андре Лори и других приключенцев; русские и иностранные классики и полуклассики, вроде нашего Станюковича и польского Сенкевича,— у первого все морские его произведения, у другого все исторические; множество исторических романов Салиаса, Данилевского, Вс. Соловьева, Евг. Тур; десятки детских журналов, как еженедельников, так и ежемесячников: «Путеводный огонек», «Родник», «Всходы», «Детское чтение», приключенческие и научно-популярные «Вокруг света», «Природа и люди», «Вестник знания». Где сейчас все эти журналы? Большинства их не видел я уже более полувека, с тех пор как уехал из своего городка; не увижу теперь и там — сгорели в 1926 году. Когда-то в Котельнической земской библиотеке выписывали даже спиритический, оккультный журнал, издаваемый известной авантюристкой Еленой Блаватской, «жрицей Изиды», как назвал ее Вс. Соловьев, кузиной министра финансов Витте, который в своих мемуарах пишет о ней без излишней почтительности. К библиотеке э
Кому же я обязан большинством прочитанных книг? Первым моим библиотекарем была Мария Павловна Спасская. Сухощавая, пожилая, очень прямо державшаяся (как я теперь понимаю, затянутая в корсет), говорившая словно бы ворчливо, но при этом всегда улыбающаяся, с ямками на щеках, Мария Павловна благодушно мне позволяла рыться на полках, даже на самых верхних с помощью лесенки, а затем, вздев на лоб очки, своим угловатым, крупным почерком, похожим на почерк Льва Толстого (в детстве я собирал образцы автографов), записывала выбранные мною книжки в большую конторскую книгу,— карточки тогда еще не ввели в такого рода библиотеках.
Земская библиотека, которой заведовала Мария Павловна, гордо называлась Публичной и, пожалуй, имела на это право: для уездного города она была весьма богата. Передо мной протоколы Котельнического уездного земского собрания за 1911 год. Читаю: «В текущем году получались следующие периодические издания: «Вестник Европы», «Русская мысль», «Современ¬ник», «Русское богатство», «Современный мир», «Исторический вестник», «Вестник знания», «Всеобщий журнал», «Новый журнал для всех», «Природа и люди», «Нива», «Пробуждение», «Сатирикон», «Русский палом¬ник», «Вокруг света», «Россия», «Родник», «Юная Россия», «Светлячок», «Тропинка», «Путеводный огонек», «Ученик», «Солнышко», «Модный свет». Далее идут названия газет.
Не считая периодических изданий, в библиотеке числилось 6758 книг. Наибольшим спросом пользовались: Толстой Л. Н. (872 выдачи), Тургенев (646), Вербицкая (638), сборники «Знания» (585), альманахи изд. «Шиповник» (564), Амфитеатров (546), Белинский (540), Григорович (500), Данилевский (468), Соловьев Вс, (455), Мельников-Печерский (448), Островский (422), Шеллер-Михайлов (415), Шиллер (400), Байрон (380), Пыпин (350), Михайловский (345), Потапенко (335), Скабичевский (310), Загоскин (300), Писемский (292), Достоевский (283), Пушкин (250), Лермонтов (240), Арцыбашев (230) Гарин-Михайловский (200), Гамсун (198),.Андреев (190), Ключевский (130), Надсон (125), Некрасов (120), Ожешко (100), Вас. Немирович-Данченко (95); от 60 до 50: Прево, Мирбо, Пшибышевский, Федоров, Скиталец, Серафимович, Стриндберг, Лажечников, Салтыков, Эберс, Шницлер, Дюма, Бальзак, Щепкина-Куперник, Шоу, Банг и Крестовский.
Я привел эти списки и цифры не из дотошности или любви к статистике: разве не интересно, что в городке, состоявшем из пяти с небольшим тысяч жителей, постоянными подписчиками библиотеки состояли 365 человек, которым за год выдано около тридцати тысяч книг (не считая уездных подписчиков, которым отправлено еще более тысячи томов)? Любопытно также попытаться понять, почему те или иные книги пользовались большим или меньшим спросом. Одни цифры вполне объяснимы, другие — нет. Скажем, популярность Льва Толстого и... Вербицкой можно уразуметь, хотя, вероятно, читали их разные люди. Белинский и другие критики понадобились учителям и учащимся, равно как и Шиллер и Байрон. Сравнительно небольшой спрос на Пушкина и Лермонтова объясняется тем, что почти в каждом интеллигентном доме имелись их сочинения; Достоевского «тяжело» читать; на Арцыбашева к этим годам, возможно, спрос уже схлынул; но почему так мало читали Дюма? Наверное, потому, что еще не успели издать полное собрание его сочинений (вышло лишь в 1916—1917 годах). А почему в перечне отсутствует Жюль Берн, широко изданный тем же Сойкиным в 1906—1907 годах? Я брал его книги именно в этой библиотеке. Ну, предположим, он отсутствует в перечне как «детский» писатель... А почему нет Горького? Знаю от отца, как он был популярен в Котельниче: пьесу «На дне» даже играли на любительской сцене, у меня сохранилась программа спектакля. Правда, усердно читались сборники «Знания» (585 выданных книг), а там и печаталось большинство рассказов и повестей Горького, но ведь упоминаются же отдельно Скиталец, Серафимович, Федоров, тоже постоянные авторы «Знания». Словом, ясности нет, разве что это случайные пропуски.
В 1919 году библиотека переехала из земской управы в дом богачей Воронцовых на главной улице, сначала в первый этаж, на место бывшего мануфактурного магазина, а потом во второй, где раньше жили сами хозяева. Заведовать библиотекой стал молодой человек в пенсне, студент, приехавший из голодной столицы к родителям. Борис Авенирович Пинегин как раз и открыл для меня Диккенса, прочитав вслух «Рождественскую песнь в прозе». Произошло это на рождестве, в один из морозных каникулярных дней; в помещении было холодновато, и мы, школьники, в перерыве грелись, толкая друг друга и разминаясь. Чтение заняло весь зимний день — рассказ большой,— но слушали терпеливо, никто не ушел, никто не шумел, не мешал читать. Мне трудно сейчас судить, хорошо ли читал Борис Авенирович: для меня это первое знакомство с Диккенсом явилось чудом, настоящим рождественским чудом!
Весной произошел эпизод в ином роде. Привыкнув рыться на полках, я выбрал себе роман Эмиля Золя «Проступок аббата Муре» (хорошо еще, что не «На-на»!) и, когда дома начал читать, ощутил неловкость: делаю что-то не то. Не стану преувеличивать свою сознательность, но все же я вернул книгу в библиотеку, не дочитав. Вернул в присутствии Бориса Авенировича, тогда как брал без него, и тут испытал другую неловкость: его помощница получила из-за меня выговор — не подумавши выдает книги! Я впервые видел Бориса Авенировича не на шутку расстроенным. Зато во время пасхальной заутрени (единственная церковная служба, которую я посещал охотно: привлекало зрелище сотен горящих свечей, ликующий хор — «Смертию смерть поправ!») я очень обрадовался, увидев, как Борис Авенирович и его миловидная помощница мирно христосовались— обменялись троекратным, если не пятикратным поцелуем.
И какое же неоценимое благо совершила эта молоденькая библиотекарша, вручив мне летом того же 1919 года «Приключения Тома Сойера»! Пожалуй, еще никогда не испытывал я такого восторга и такого ощущения сотоварищества, чувства локтя, читая о приключениях Тома; тем более что его влюбленность в Бекки нашла бурный отклик в моей влюбленности в Воронцову, о которой я уже рассказывал.
Через год библиотека переехала в небольшой деревянный дом в гористой части города, принадлежавший местному провизору, красивому мужчине с пышными, как на рекламе «Перуин-Пето», усами. Мне он внушал почтительный интерес: я знал (и в открывшуюся на считанные секунды дверь видел), что в подвластной ему аптеке идет таинственная, кропотливая работа: пересыпают и взвешивают на точных химических весах белые порошки, переливают разноцветные жидкости, на столах и на полках мерцает множество больших и малых стеклянных сосудов; было во всем этом что-то уэллсовское, да и ходил Сергей Николаевич Пиков по улице (и даже у себя по двору) всегда с озабоченным лицом, слозно испытывая тревогу — не взорвалась бы без него эта лаборатория. Вызывало только недоумение, зачем он отрастил такие усищи: еще обмакнет ненароком в какой-нибудь яд или кислоту! Пиков был мой родственник, один из маминых двоюродных братьев, но я с ним не был знаком, хотя учителем математики в нашей школе был его родной брат. Борис Николаевич, в противоположность Сергею Николаевичу, был некрасив и своей козлиной бородкой и ехидным нравом напоминал Мефистофеля. Даже серьезного, никогда не шалившего Колю Карлова он умудрился поймать на том, что тот на уроке чиркнул под партой чьей-то зажигалкой, и долго над ним измывался. Учитель он был неважный, путался в уравнениях, а до бинома Ньютона нас так и не довел — не успел или убоялся трудностей.
Жена Бориса Пикова, Зоя Петровна, строгая дама в синих очках, как раз и стала немой, но внимательной свидетельницей того, как менялись мои читательские интересы. Этой новой нашей библиотекарше пришлось методично, из недели в неделю, выдавать мне книги по технике, электричеству; начитавшись вволю, я производил дома опыты и сооружал приборы — лейденские байки, электрическую машину, от которой они заряжались. Книги же, на дом не выдававшиеся и тем особенно привлекательные, например толстый том «Чудеса техники XX века» инженера Рюмина, я просматривал в читальном зале и с сожалением возвращал затем Зое Петровне.
В пиковском дворе библиотека пребывала несколько лет. За эти годы приключенцы были совсем забыты, на смену им кроме книг по технике пришли серьезные русские и западные писатели; еще через год, ближе к шестнадцати, меня потянуло к поэзии (к чтению, не к писанию стихов), и это уже навсегда. Если Некрасова, Лермонтова, Пушкина (именно в такой последовательности) я любил с детства, то лет с пятнадцати я начал усиленно читать Фета, Тютчева, затем кинулся к Брюсову и Бальмонту, Блока почему-то пропустил: очевидно, была потребность ошарашить себя чем-то экстравагантным, непохожим на «прежние» стихи... Зато тогда же открылась для меня поэтичная и вместе с тем необычайно плотная и вещественная бунинская проза; стихи Бунина, если не считать «Гайаваты» в его переводе, я полюбяд позднее. Здесь, быть может, уместно сказать о значении Бунина вообще в моей жизни, в какой-то период даже роковом, если перескочить от детства и отрочества к зрелому возрасту.
Лыжи
Первые мои лыжи были самодельными. Разумеется, делал их не я,— одиннадцатилетнему это, пожалуй, не под силу; и вообще, проще, казалось бы, ку« пить,— но где? В 1919 году в Котельниче не только спортивных магазинов — самых обыкновенных мелочных лавок не было. Попросить у знакомых, у соседей? Но у всех дети, а дети хотят бегать, кататься, несмотря на любые социальные катаклизмы и житейские трудности,— никто добровольно не расстается с коньками и лыжами. Словом, отец взялся сам смастерить лыжи —ш он любил решать такие заманчивые задачи.
Сперва потребовалось подыскать подходящий материал — в буквальном смысле без сучка, без задоринки. Две ровные березовые доски были найдены, надлежащим образом обработаны, гладко выстроганы; длина, ширина, толщина будущих лыж — все заранее предусмотрено, обговорено со мной. Труднее всего оказалось загнуть острые концы так, чтобы после они не разогнулись. Папа отмачивал и отпаривал эти концы в кипятке, а затем отгибал, вставлял между ними распорки и в таком виде просушивал несколько суток. Помню, он раног утром вставал и сразу шел проверять, как обстоят дела.
В результате я получил превосходные лыжи, гибкие, легкие и послушные, несмотря на отсутствие снизу желобка (желобок при всем желании не удалось сделать). Они были шире, короче и тоньше тогдашних фабричных беговых лыж, и по рыхлому снегу ходить на них было легче. Я совершал дальние походы в лес, до устали катался с гор и на первое время даже забросил коньки.
Котельнич и его окрестности изобилуют горами, но не все эти горы годятся для лыж: одни из них — городские улицы и проезды, другие — гористый берег реки, настолько крутой и обрывистый, что местами снег на нем не задерживается, всю зиму на виду остаются гли¬нистые красноватые лысины. Правда, на Вятке, повыше пристани, находится овраг Семиглазов, где скат к реке между редкими соснами привлекателен для лыжников, но однажды там произошла трагедия. Четырнадцатилетний школьник съехал на лыжах с обрыва и попал в западню: под снежным настом к весне образовались пустоты, мальчика завалило осевшим снегом, лыжи были прикреплены к ногам наглухо,— как ни бился, не мог вылезть наружу; тело отыскали через несколько дней — из-под снега торчала лыжная палка.
Первое время я бегал и катался с мальчишками на Солдатском пруду, где берега сравнительно низкие и отлогие. Но скоро мне это прискучило, и я со своим ближайшим приятелем Володей Бутыриным нашел местечко поинтереснее — так называемую Нижнюю линию. Эта железнодорожная ветка вела к реке, к летней стоянке нефтеналивных барж, ее проложили в специально отрытом глубоком карьере. Так как зимой по Нижней линии поезда не ходили, то нам ничто не мешало. Откос был довольно крутой, под сорок пять градусов, как многие железнодорожные насыпи, и нас выносило с разгона на противоположный откос, основательно тряхнув на своеобразном трамплине — присыпанных снегом рельсах.
Но что это по сравнению с тем, что мы испытывали, съезжая с заречной, куда более высокой насыпи! Насыпь вела к большому пятипролетному мосту через Вятку, о котором я уже не раз говорил, которым горжусь и восхищаюсь и нынче. Вихрем с нее слетев, катишь но дамбе или по равнине еще метров сто — полтораста. .. Конечно, теперь, когда мы насмотрелись в кино на головокружительные спуски с кавказских или альпийских горных хребтов или воочию на прыжки с кавголовских трамплинов (кстати, под Котельничем, в колхозе «Искра», тоже имеется теперь такой трамплин), наши заречные подвиги кажутся пустяком, но тогда дух захватывало! Кто из ребят не испытал такого счастливого, на грани восторга и ужаса, ощущения?
Но прогулки на лыжах за Вятку, особенно ближе к весне, таили в себе и другие очарования. Сверкавший под февральским, под мартовским солнцем снег, недвижно застывшие на прибрежных холмах дубы, еще совсем зимние, не проснувшиеся от декабрьского и январского сна, а рядом уже залиловевшие ивовые кусты, кое-где, на открытых солнцу местах, даже с сережками; оживившиеся, бойко перепархивающие с ветки на ветку птицы,— они доклевывали остатки прошлогодних ягод рябины, калины, шиповника... и вдруг раздается уже откровенно весенняя, призывная дробь дятла!
А какие неожиданные встречи! С противоположных сторон одновременно выбежали на поляну два очень разных, совершенно непохожих друг на друга существа: пятнадцатилетний подросток на лыжах — и белый как снег, с черным кончиком хвоста горностай. В первый момент мы оба приостановились, выжидательно замерли, а затем я продолжал стоять, не спуская глаз со зверька, а он деловито возобновил свой путь, разве что чуть свернув вбок, чтобы не повстречаться' нос к носу с незваным пришельцем. Я долго потом – разглядывал его мелкие, слегка заметенные пушистым хвостом следы.
Да, хорошо у нас за рекой и зимой и летом! Даже не знаю, когда и лучше,— пожалуй, все же зимой, когда там безлюдье и тишина. Правда, зимой там без лыж пройдешь только по дороге, которая как раз не пустынна: то и дело попадаются возы с сеном, что тоже имеет свою приятность (чего стоит один запах сена!),— самая-самая же тайная прелесть заречных рощ и лугов пешему недоступна. Вот почему' в моей жизни, как детской, так и взрослой, лыжи так много значили и до сих пор значат…
С другими произведениями Л.Н. Рахманова вы можете познакомиться на сайте www.rahmanov.info